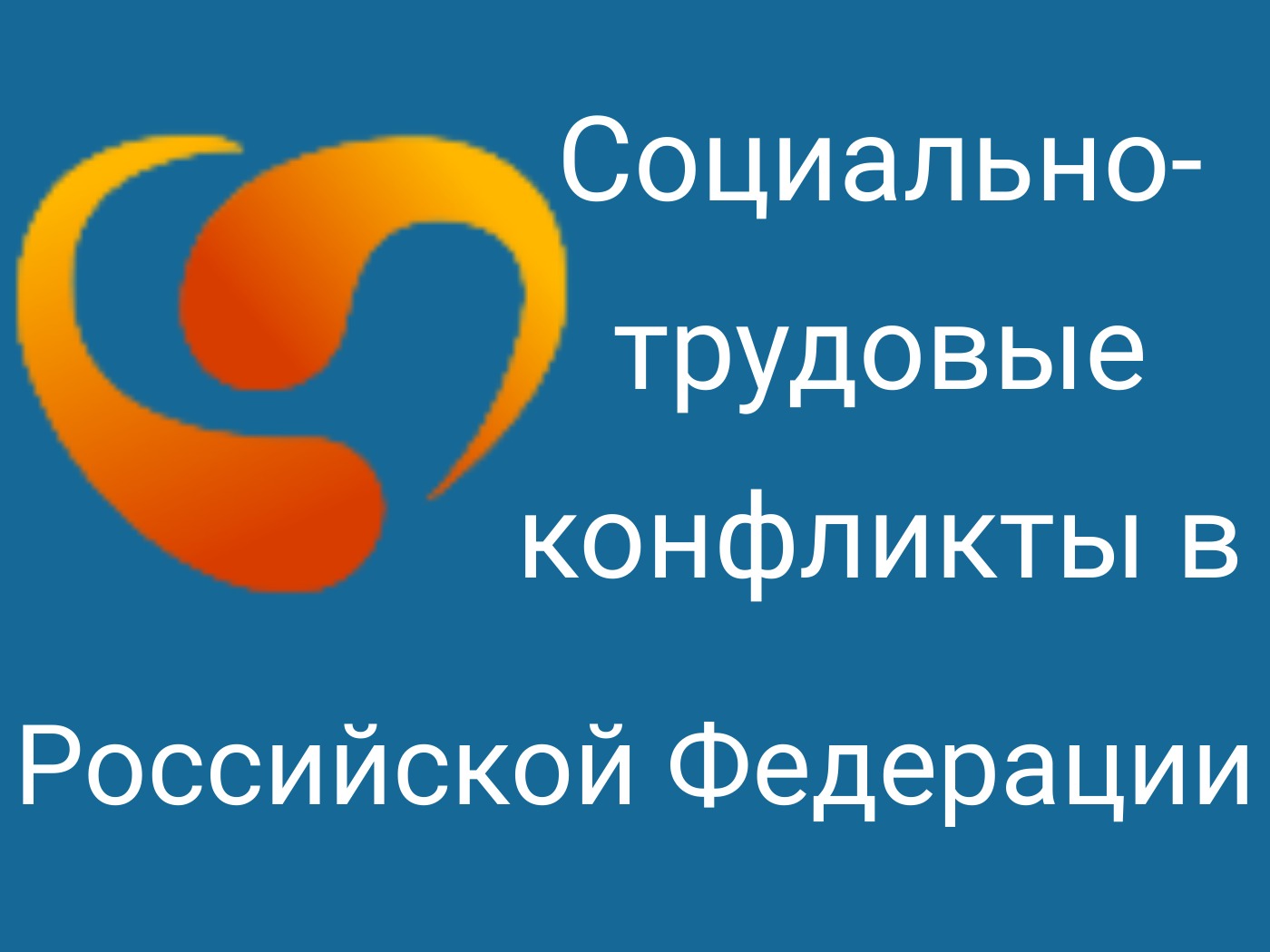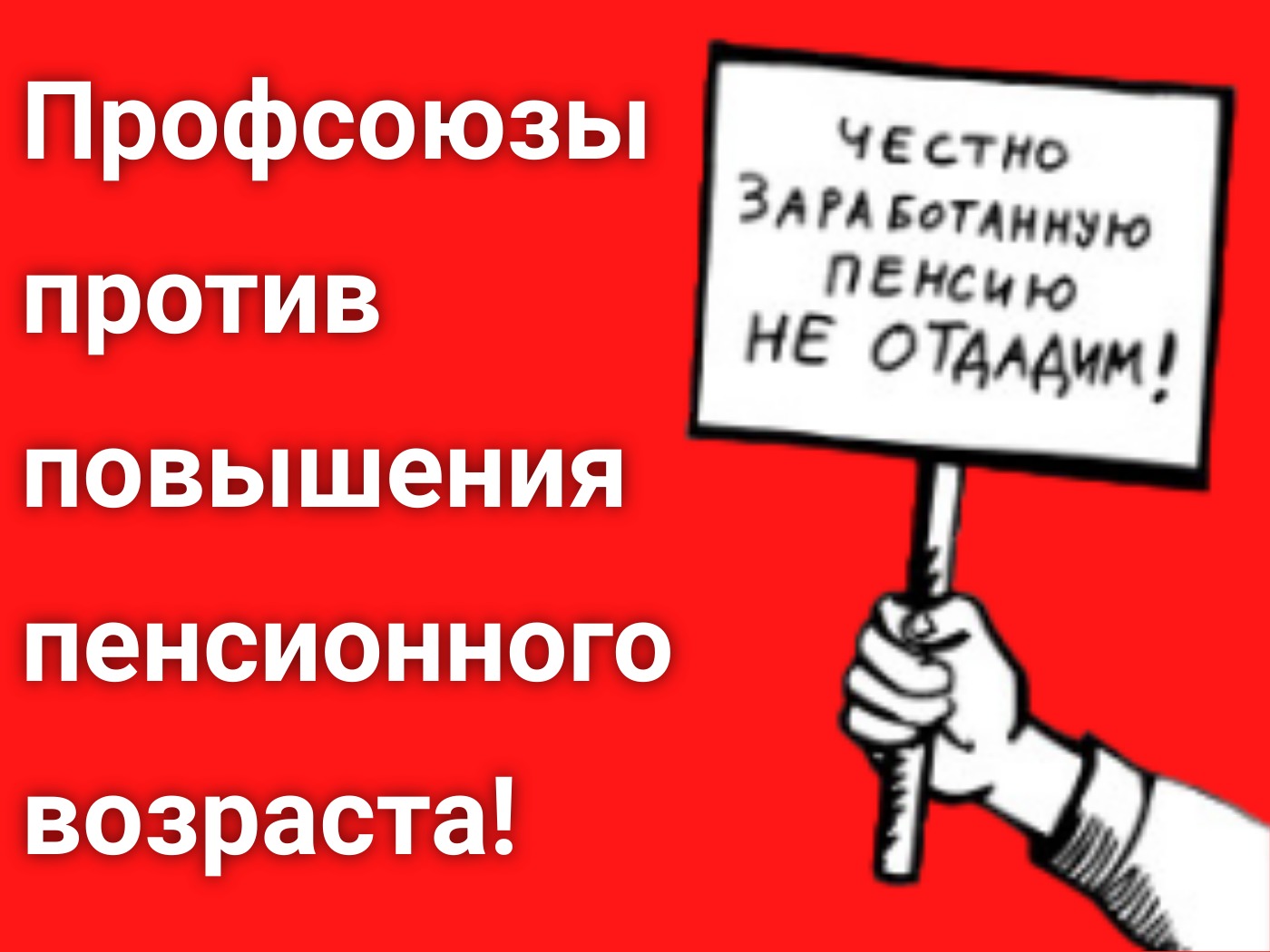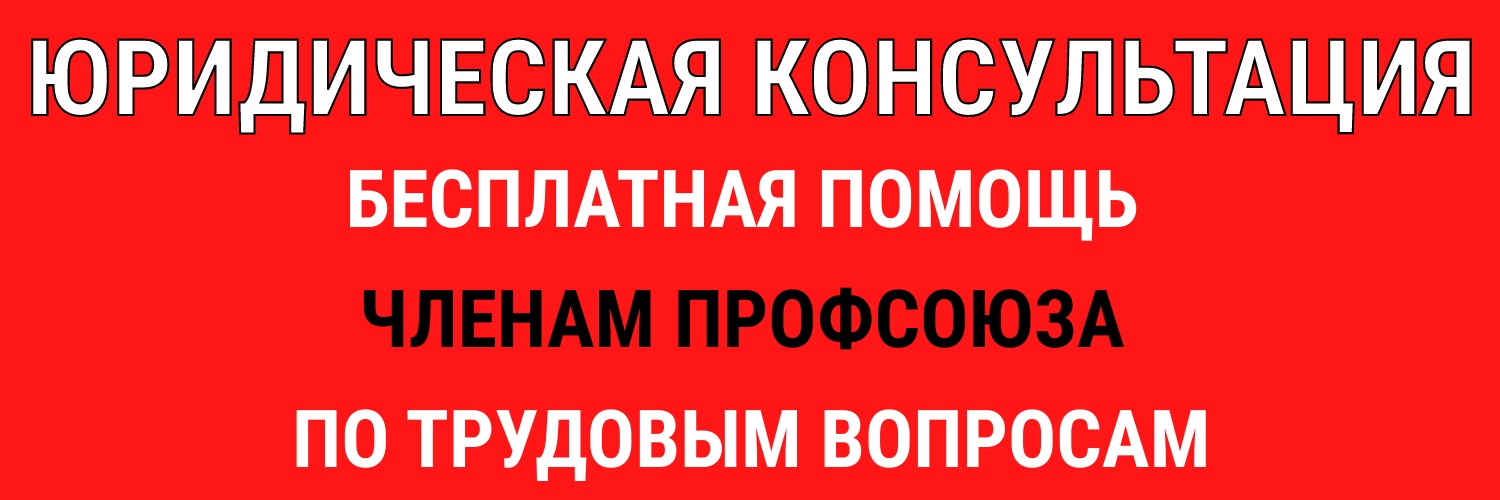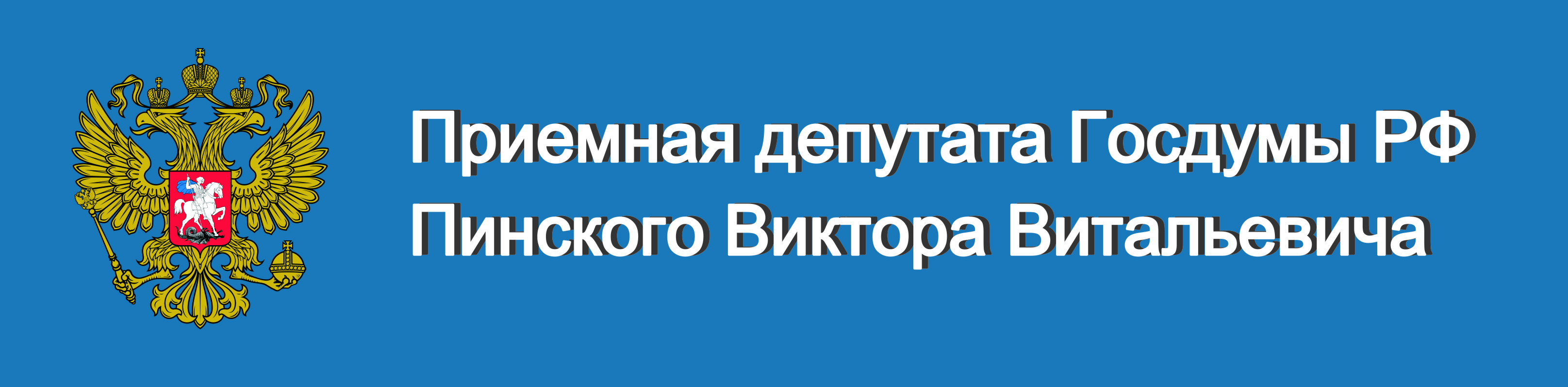"Профсоюзу сегодня не нужны пассивные люди. Нам нужны те, кто плечом к плечу с профлидерами будет отстаивать будущее российской науки и ее работников", - Тамара Николаевна Тур знает, о чем говорит. 20 лет она была председателем Приморской региональной организации профсоюзов работников РАН, а последние три года является советником профсоюза работников РАН.
Если бы выпускнице филфака Дальневосточного государственного университета Тамаре Тур сказали, что огромный пласт ее профессиональной жизни будет связан с профсоюзами, она бы сильно удивилась. После окончания университета вместе с мужем-выпускником ДВВИМУ уехала в Находку и устроилась в одну из школ города учителем русского языка и литературы.
- Этот период жизни дал мне очень многое – и в профессиональном плане, и в человеческом, - признается она.- Вдохновленная примером более старших коллег-учителей я приобретала педагогический и жизненный опыт. Кстати, многие из полученных навыков пригодились мне в профсоюзной работе.
После переезда семьи во Владивосток Тамара Николаевна работала в лаборатории социологии Дальзавода, а затем - заместителем директора по учебно-воспитательной работе в среднем профессиональном техническом училище №8. Ей приходилось часто бывать на совещаниях горкома и крайкома образования, там ее заметила председатель краевого комитета профсоюзов работников образования и науки Раиса Шабанова и пригласила на работу.
- С благодарностью вспоминаю Раису Николаевну, у которой многому научилась, - продолжает Тамара Николаевна. - Опытнейший председатель, она возглавляла крайком более 30 лет. Ее деловая хватка, умелое управление одним из самых многочисленных профобъединений края, принципиальность в отстаивании интересов педагогов, способность найти подход к любому человеку - пример для подражания. Очень признательна и Владимиру Павловичу Чубаю, возглавлявшему в то время ФППК. Он обладал большим авторитетом в крае, был юридически грамотным и очень внимательно относился к членским организациям - с какой бы проблемой я к нему не обращалась, он всегда вникал в ее суть и искренне пытался помочь. С этими наставниками и происходило мое профессиональное становление в профсоюзе.
- Как оказались в профсоюзе работников РАН?
- Меня пригласил возглавлявший Приморскую краевую профорганизацию работников ДВО РАН Юрий Федорович Степанюк. Он уходил на другую работу и искал преемника. Поскольку мы часто общались по профсоюзным вопросам, видимо, он что-то разглядел во мне и выдвинул мою кандидатуру на отчетно-выборной конференции.
Я, признаться, ни на что не надеялась, так как была для делегатов чужаком, а вторым кандидатом был как раз выходец из научной среды. Тем не менее, Юрий Федорович меня рекомендовал, делегаты «попытали» меня и... выбрали. Я понимала, какой кредит доверия мне выдан, какая ответственность возложена, и старалась не подвести. К тому же, приняли меня хорошо. Мне везет на хороших людей, и я точно знаю - их много. А когда в это искренне веришь, то и сам становишься лучше.
- Чем сегодня живет профсоюз?
- Тем же что и прежде. Его задачи - обеспечение достойной жизни членов профсоюза, соблюдение трудового законодательства в учреждениях ДВО РАН.
Другое дело, что время диктует новые формы работы. Когда я только начинала, не было ни забастовок, ни митингов. И сложно было представить, что это вообще когда-нибудь будет возможно у нас в стране. Но мне пришлось не только участвовать в подобных акциях, но и самой их организовывать – выводить людей на передний фронт борьбы за свои права.
- Сегодня к митингам все привыкли, а в 1990-х это было делом новым и, что таить, небезопасным. Вам, хрупкой женщине, не было страшно?
- У нормального человека чувство страха должно присутствовать Но что нам оставалось делать, если иначе нас не слышали?
Помню, у академии хотели забрать медобъединение, и мы перекрыли федеральную трассу. К слову, в этой акции лично участвовал председатель академии ДВО РАН академик Георгий Борисович Еляков. В оцеплении также стояли не только рядовые, но и офицеры высшего ранга - подполковники, полковники. И вот один из них - рослый, крепкий, со стальным взглядом - подошел ко мне, посмотрел пристально в глаза и процедил:
- Будь моя воля, я бы заставил тебя вести себя по-другому.
- Хорошо, что вашей воли на то нет, - ответила я твердо. А у самой, что таить, душа ушла в пятки.
Однажды в разговоре с одним из академиков, которого приглашала пойти на митинг, услышала отказ: "Тамара Николаевна, у меня же дети...". Я понимающе кивнула, а про себя подумала: "У меня тоже". Но я никого не осуждаю. Многие в то время осторожничали, боялись возможных последствий, в том числе по отношению к детям. Слишком сильны были воспоминания о репрессиях в советское время. На заре перестройки многие просто не знали, чего ждать от нового времени.
- Насколько я знаю, на вас даже завели уголовное дело?
- Да, и такое тоже было. Это случилось после того, как мы в знак протеста против унизительного положения науки перекрыли федеральную трассу в районе "Зари". Молча, без лозунгов и плакатов, шли, взявшись за руки с коллегами. Акция была не стихийной - оформленной по всем правилам. Тем не менее, на меня и моего помощника, члена объединенного комитета Эмиля Львовича Школьника завели уголовное дело.
Я была готова к тому, что меня будут судить, и надеялась, что это хотя бы будет открытый процесс. Но в итоге дело спустили на тормозах, а потом и вовсе закрыли. Думаю, не обошлось без участия возглавлявшего в то время Приморье Евгения Ивановича Наздратенко. Он правильно, на мой взгляд, относился к науке, и я знаю, что к нему по поводу этой ситуации обращался Чубай.
- Что становилось поводом для митинга?
- Мы боролись одновременно и за зарплату, и за достойные условия работы для ученых. А значит, за сохранение лучших научных умов в Приморье и России. Вопрос финансирования науки до сих пор стоит очень остро, а тогда - особенно. Ученые должны быть во всеоружии, иметь все необходимые для работы материалы, оборудование, а не карандаш с листом бумаги, как у многих в то время. О компьютерах можно было только мечтать. И невольно вспомнилось нам далекое время, когда создавалась Академия наук, и как правительство и царь относились к ней. "Если хотите заниматься наукой, ею можно заниматься в Париже, в Лондоне, но лучше в Петербурге, где Петр натаскал так много хорошего оборудования, что можно заниматься хорошо..." - приглашал своих коллег-ученых Бюльфингер Георг Бернгарт, один из первых членов Российской академии наук.
Почему российские ученые уезжали за границу? Не за зарплатами - за условиями для работы. Почему уходили из науки в поисках лучшей доли? Потому что им надо было кормить семьи. И мы боролись за тех, кто оставался преданным своему делу и своей стране. За тех, кто подрабатывал ночами - разгружая уголь на станциях, занимаясь частным извозом с риском для жизни (времена были лихие!), - а утром спешил в свои лаборатории да еще приобретал на собственные деньги реагенты.
Заря возмущения, как правило, всходила на Востоке. Мы первыми в РАН начинали всероссийские акции протеста, после чего к нам присоединялись другие регионы. Участвовали и в акциях других профсоюзов края. Наш профактив был легок на подъем. Не забуду ощущение невероятной силы и единства, характерные для профсоюзной солидарности в то время.
- А сегодня как с этим обстоит дело?
- В какой-то момент мне стало казаться, что чувство профсоюзной солидарности мельчает. Однако и сегодня есть яркие примеры, демонстрирующие обратное. Например, когда минувшей осенью профсоюзы страны собрали приморским товарищам, пострадавшим от тайфуна «Лайорнок», 10 млн рублей. Или когда в декабре 2016 года в считанные дни губернатору Приморья поступили сотни обращений от трудовых коллективов страны в поддержку профсоюза «Примтеплоэнерго». Такие моменты очень вдохновляют.
Кроме того, в 2013 году именно профсоюзное единство заставило власть прислушаться к мнению ученых по поводу реформы Российской академии наук. По стране прокатились митинги протеста, и нас услышали не только депутаты Госдумы, но и Президент. В результате в законе о реформе РАН были частично учтены наши требования, внесены поправки и дополнения, подготовленные научным сообществом.
- Новые формы работы, которые вы упоминаете, требовали новых знаний и компетенций. Вы оказались к этому готовы?
- Действительно, надо было развивать способности выступать на митингах, ораторское искусство, более глубоко изучить право, чтобы, ведя за собой людей, не нарушить законодательство. Я постоянно находилась в процессе обучения.
Кроме того, важно, чтобы в стремлении помочь членам своей профорганизации ты был искренним и относился к этому не формально, а действительно делал все возможное в данной ситуации. Тогда за тобой пойдут люди.
У меня всегда были надежные соратники, которые верили в наши возможности и силу профсоюза, - активные, эрудированные. Представьте, четверо из десяти членов объединенного профкома - доктора наук! И такая пропорция соблюдалась всегда. Поскольку в свое время я занималась социологией, то старалась, чтобы социальные группы были представлены у нас равномерно.
Важным для меня было и то, чтобы профком не был пассивным, когда пришли на заседание, молча послушали, проголосовали и тихо ушли. Я подбирала людей неравнодушных, которые искренне болели за наше общее дело и имели свой взгляд на происходящее. Я, к слову, никогда не считала свое мнение единственно правильным. Знаете, сколько горячих споров было на заседаниях нашего профкомитета!
- Что становилось предметом споров?
- Да что угодно. Как разумнее распределить профсоюзные средства, кого рекомендовать на должность председателя какой-либо первички, каким образом заставить власть услышать представителей науки - написать письма в соответствующие инстанции или сразу организовать митинг... Бывало, что большинством голосов принимали точку зрения, с которой я лично внутренне была не согласна. И это нормально - я должна подчиняться большинству.
Кроме того, вернувшись в свои профорганизации, члены профкома должны были информировать коллег о том, чем живет и какие задачи решает наш профсоюз, за что и с кем борется. Люди должны знать, на что идут их членские взносы.
Также ежегодно мы устраивали встречи профактива с председателем ДВО РАН Валентином Ивановичем Сергиенко и его заместителями. Это было полезно для всех. Руководство из первых уст получало информацию о том, что волнует работников, чем они живут. Члены профсоюза - прямые ответы на свои вопросы. Эти встречи дорогого стоили - люди знали, что их слышат, и их мнение имеет значение.

- Как обстоят дела с численностью профсоюза, идет ли к вам молодежь?
- В целом и по Российской академии наук, и в ДВО РАН профсоюзный охват - 70%. Сегодня в краевой организации нас 2600 человек, процентов 12-13 за последние годы мы потеряли. Конечно, мы заинтересованы в привлечении молодежи и ведем большую работу по мотивации вступления в наши ряды. Но молодых людей сегодня сложно заинтересовать идеологией, меркантильные интересы часто превалируют. Бывает, что вступают в профсоюз, обращаются за помощью, а, получив ее, тут же выходят, и через какое-то время ситуация повторяется. На этот случай у нас в уставе есть пункт – принимать тех, кто вышел из профсоюза, не раньше, чем через год. Бывает, исключаем людей из профсоюза – за невыполнение устава. Наращивать численность наших рядов нужно, но мы за осознанное вступление в профсоюз и готовность к активным действиям.
Профсоюз сегодня единственная организация, защищающая трудовые права работающего населения. Члены профорганизации регулярно обращаются к нам с вопросами правового толка, и мы встаем на защиту каждого - и академика, и технички. Ни один работник не остается без нашей помощи. Для этого содержим штатного юриста, пусть и на крохотную часть ставки.
Но при этом мы должны быть объективными, и требовать не только от работодателя, но и от работников. Приведу такой пример. Однажды в профком обратились уборщицы одного из институтов с жалобой на маленькую зарплату и отсутствие выплат за дополнительную нагрузку. Я внимательно изучила их требования, подготовилась и пошла к директору. Сижу в его кабинете, излагаю суть проблемы и, глядя по сторонам, вижу чудовищное количество пыли - на окне, на подоконнике, на столе! И это в кабинете руководителя, что уж говорить о других помещениях. Думаю, вот сейчас он мне парирует - а за что платить? Тем не менее, вопрос решился положительно. Но, выйдя от директора, прямиком направилась к заявителям и высказала все, что думаю об их работе. А затем поручила председателю первички контролировать качество уборки. Как профсоюз может защищать людей, которые трудятся недобросовестно? Обязанности есть у каждой стороны.
- Как сегодня профсоюзу выстраивать отношения с работодателем?
- С помощью коллективного договора. Это самый действенный инструмент диалога, именно он регулирует отношения коллектива и администрации. Более того, если больше половины его пунктов не будут выполнены – может встать вопрос, насколько руководитель соответствует своей должности.
- Cегодня, оглядываясь назад, не жалеете, что связали свою жизнь с профсоюзом?
- Нисколько. Более того, я благодарна судьбе за то, что привела меня в ДВО РАН. Во Владивостоке и Москве мне довелось познакомиться с потрясающими людьми - академиками, членкорами, докторами наук, даже нобелевскими лауреатами – элитой общества. Общение на таком уровне заставляло быть в интеллектуальном тонусе.
Что же касается профсоюзной работы, то в багаже нашей организации столько значимых, реальных дел, результаты которых улучшили жизнь конкретных людей, заставили власть обратить внимание на проблемы науки и ее работников, что я испытываю большую гордость за то, что я и мои коллеги причастны к этому.
К тому же, оставив профсоюз в надежных руках преемницы, Ольги Сергеевны Громашевой, я по-прежнему в курсе всего происходящего. Отраслевым профсоюзом и крайкомами сделано многое, но работы предстоит еще больше. Вопрос финансирования российской науки по-прежнему является основополагающим. И мы, профсоюзы, не должны допустить ни массовых сокращений, ни развала отрасли.